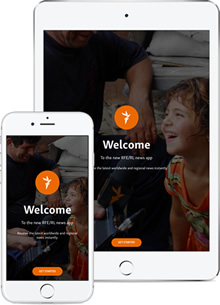Ив. Толстой: Архивы Третьей волны русской эмиграции и андерграудной литературы в Советском Союзе всё еще изучены мало. Они уничтожались, конфисковывались, лежат где-то под спудом. Тем интереснее неожиданные находки. Наш постоянный автор историк Михаил Талалай обнаружил письмо известного питерского поэта Олега Охапкина, отправленного в Рим своему приятелю. Письмо не бытовое, а культур-философское, касающееся понятия Бронзовый век русской культуры.
Я прошу Михаила Григорьевича рассказать о находке.
М. Талалай: Это и находка, и публикация, потому что буквально, ну скажем, не на днях, но пару месяцев тому назад академический, сверхакадемический, литературоведческий журнал «Вопросы литературы» опубликовал два письма Олега Охапкина в Рим. Письма важные, интересные. Конечно, для меня это радостное событие – данная публикации, которая восходит к моим исследованиям еще двухлетней давности.
Публикация небольшая, но история ее достаточно значительная. Года два с половиной тому назад я работал в архиве Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете. Работал, естественно, в его итальянских фондах, их там немного. В том числе – фонд Евгения Александровича Вагина, римского жителя, еще, кстати, до конца не разобранный. И вот в этом его фонде я обнаружил одно письмо, весьма емкое, цельное, интегральное. И это письмо 1978 года, адресованное в Рим к Евгению и к его супруге Римме, мне показалось возможным опубликовать, потому что оно, действительно, сообщало об интересных событиях: кто уехал, кто собирается уехать, кто что говорит, кого и как критикуют. Ну, в общем, литературная хроника андерграунда той поры. И я начал предпринимать действия по публикации ценного письма.
В первую очередь я связался со вдовой автора этого письма, Татьяной Ивановной Ковальковой. Дело в том, что я лично знал и автора послания, и адресата – Евгения Александровича Вагина, и неплохо знаю его вдову – Татьяну Ивановну, причем знал ее еще до того, когда Олег и Татьяна поженились.
Дело в том, что Татьяна была деятельной участницей эколого-культурного движения за сохранение и спасение ленинградских, петербургских памятников. Речь идет о 1986-1988 годах. И Татьяна, тогда студентка журфака университета, близко к сердцу приняла вот это наше движение неформалов, пыталась как-то освещать и в самиздате, и в официальной прессе нашу протестную деятельность. Мы сначала встречались на сходках неформалов, потом, когда я уже работал в Фонде культуры, Татьяна часто приходила в офис Фонда и каким-то образом освещала нашу работу.
Не знаю, где она познакомилась с Олегом, который тоже наведывался в Фонд культуры, а однажды он мне сообщил: «Вот я женюсь…», и даже помню окончание той его фразы: «на вашей девице». Он имел в виду ее участие в нашем неформальном движении.
После кончины Олега Охапкина Татьяна Королькова организовала Охапкинские чтения
Сейчас Татьяна уже достаточно известный публицист, сама стала литературоведом. После кончины Олега Охапкина организовала Охапкинские чтения, на которых обсуждаются вопросы истории второй культуры, андеграунда, самиздата, много есть терминов для определения той интереснейшей литературной поры.
Итак, я послал Татьяне обнаруженное в Бремене письмо. Татьяна, понятно, очень обрадовалась, сообщив, что благодаря находке ей удалось выявить, кому адресовано одно важное, значительное, ну почти эпохальное письмо Олега, сохранившееся в виде ксерокса в ее архиве в Петербурге. Это – прежде неизданное письмо, с важными концептуальными обобщениями поэта, к которым мы еще вернемся. В его начале стояло «Дорогой Евгений», а что за Евгений, и куда его слали, было неизвестно.
Итак, получилось два ценных письма. И я, естественно, пригласил Татьяну к публикации, потому что первое по хронологии письмо было из ее архива. И решил всё это отправить в журнал «Звезда», потому что сам Олег в своих письмах сообщает радостную весть, что этот журнал принял подборку его стихов. Представляете, какое это событие для подпольного поэта! В 1978 году, полный застой, а действительно стихи вышли.
И я написал моему тоже знакомому по той поре, по Клубу-81, легендарному клубу вольных литераторов, нынешнему сотруднику журнала «Звезда», Борису Лихтенфельду, обрадовав его, что вот предлагаю такие два письма. Он, конечно, охотно согласился.
Тут Татьяна Ковалькова пишет и сообщает, что есть исследовательница творчества Олега Охапкина, которую следовало бы привлечь в наш маленький проект. Это молодой, но уже состоявшийся литературовед, кандидат филологических наук Анастасия Корсунская, которая пишет докторскую о творчестве Олега Охапкина. Итак, нас уже получилось трое публикаторов на два письма. Причем в алфавитном списке я вышел последним. Сначала Ковалькова, потом Корсунская, затем Талалай. И в итоге Анастасия Корсунская как ученый филолог сказала, что да, «Звезда» – это хорошо, но давайте организуем эту публикацию уже как литературоведческую и отправим ее в самый высоко-академический российский журнал по теории и истории литературы, то есть в «Вопросы литературы». Журнал непростой, действительно сверхакадемический, у них там повышенные требования к оформлению и комментариям. И в итоге, наша публикация продвигалась там года полтора и вышла совсем недавно.
Добавлю курьезный момент, что если сам этот журнал в своих сокращениях и на интернетовских сайтах использует аббревиатуру «Воплит» то Анастасия писала сокращенно «Вопли». Оказалось, что существует такое несерьезное сокращение названия этого очень серьезного журнала.
Итак, публикация вышла, скоро будет размещена в Сети, и с этими двумя замечательными письмами можно будет ознакомиться целиком. При этом, я публично извиняюсь перед Борисом Лихтенфельдом, что взял обратно свое предложение в журнал «Звезда».
Отрывок из письма Олега Охапкина:
Кстати, об антологии. У Дмитрия Оболенского[британский историк и филолог] была хорошая антология в Penguin Book. Я эту антологию подарил Володе Порешу.
Недавно, году в 75 вышла вторая антология того же толка в той же серии. Я видел ее. Это послевоенная русская или советская, я так и не понял, поэзия. Это интересно. Там кончается все тем же Бродским. Надо бы это дело продолжить, т.е. собрать антологию Бронзового века. Сие мое название уже пошло в ход, и скоро в Австрии выйдет журнал под этим названием. Таким образом я окрестил наше время, с чем вас и поздравляю. …
Я автор символического календаря, я – новый Гесиод, Данилевский, Хлебников. Но шутки в сторону, а идея хорошая. Наконец-то будет порядок. По моему календарю удобно изучать историю. Он на многое проливает свет. Иоанн Богослов меня бы похвалил… Вот она священная математика.
Но тут пока хватит. Я еще этим занимаюсь. Прошу пока не распространяться. У меня ключ к периодической системе истории. Мне совершенно ясна идея Менделеева, но задним числом. Он, кстати, многое не понял в собственной системе. Мир оказывается довольно систематичен. Во всяком случает Библия и Апокалипсис.
И понятием Бронзовый век, прошу покорно, пользоваться и чем шире, тем лучше. Объясняться пока ни к чему. Там видно будет.
Искренне, Олег Охапкин
Ив. Толстой: Михаил Григорьевич, а кто же адресат охапкинского письма? Кто это такой - Евгений Вагин?
М. Талалай: Евгений Вагин, теперь он уже для меня с отчеством – Александрович… О нем я могу рассказать много, потому что он был одним из моих первых русско-итальянских знакомых. Шел восемьдесят восьмой год, у меня – первая поездка в Рим. Я дружил с семьей брата Евгения Александровича, оставшегося в Ленинграде. И поэтому перед отъездом, когда я собирал разные итальянские, римские контакты, мне дали тамошний телефон Евгения и прочие координаты.
И я оказался у него в студии. Он тоже работал на радио, на радио Ватикана. И, конечно, вот эти первые яркие встречи в Риме мне отлично помнятся. Помню, что меня поразила христианская обстановка той радиостудии, с восьмиконечными крестами и с огромной репродукцией картины Ильи Глазунова. Евгений принял меня тепло, смеялся, он любил заливисто смеяться, это была его замечательная черта. Он также раскатисто смеялся, когда я ему потом сознался, что думал, что он – обязательно католик восточного обряда из череды загадочных русских католиков, раз он вещает на радио Ватикана. Но он мне объяснил, что времена нынче либеральные, что и православным можно работать на католическом радио.
Евгений мне вручил голубую итальянскую банкноту с изображением физика Алессандро Вольта
Мы встречались в разных уголках Рима в те первые мои итальянские недели. И он тронул меня одним деликатным моментом, о котором все-таки расскажу. Евгений мне вручил голубую итальянскую банкноту с изображением физика Алессандро Вольта. Я, конечно, был смущен, но все-таки принял это пожертвование советскому визитеру и с пользой его использовал.
Потом уже, когда я сам обосновался в Италии, я ближе познакомился с Евгением, узнал его драматическую судьбу. Он участвовал в антисоветской подпольной группе. Был громкий процесс по делу ВСХСОНа, это Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Возник в шестидесятые годы. Конечно, такая странная и во многом, быть может, нелепая затея организовать подполье с целью произвести социальный и революционный переворот в Советской России. Многие получили серьезные сроки. И сам Евгений получил 8 лет мордовских лагерей. Отсидев, он в 1976 году сумел выехать и обосновался в Италии, где мы и познакомились.
Эти письма и многое другое, его собственные записки, какая-то корреспонденция, заметки, статьи, они в итоге после его кончины были переданы его вдовой Риммой Алексеевной Вагиной (урожденной Дмитриевой) в Исследовательский центр Восточной Европы при Бременском университете. И среди разных документов его фонда, я и обнаружил вот это одно единственное письмо к нему от Олега Охапкина, к которому Татьяна присоединила предыдущее письмо из своего архива.
Прошли годы уже, и тут с Евгением происходит, ну, скажем так, посмертная история, post mortem. Будучи в древнеримских катакомбах со своими друзьями, я обнаружил, что гиды по этим катакомбам (а это католические монахи, салезианцы) ходят с магнитофончиком. Я бы сказал, что они русскомолчащие гиды, есть такой термин. Этот магнитофончик они включают в определенных пространствах катакомб, и он говорит голосом Евгения Александровича. Очевидно, работая на радио Ватикана, он получил задание от салезианцев озвучить их тексты, и теперь и для меня, и для моих гостей в римских подземельях, в катакомбах, в античном андеграунде звучал голос Евгения Вагина, и будет звучать, может быть, еще многие годы.
Ив. Толстой: Голос Евгения Вагина сохранился и в архиве Радио Свобода. В мюнхенской студии Евгений Александрович представлял подпольную организацию ВСХСОН, за участие в которой он и получил лагерный срок. Запись 1976 года.
Евгений Вагин: Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа был основан в 1964 году в Ленинграде группой единомышленников, людей, связанных узами личной дружбы, знакомых между собой еще с университетских лет. Союз этот представляет собой очень интересное, мне кажется, явление среди всех тех молодежных объединений, которые стали известны за последние 15-20 лет. Дело в том, что помимо резкой и радикальной критики марксистской доктрины и материалистического мировоззрения в целом, которая содержится в программе нашего союза, мы попытались впервые, насколько мне известно, предложить и некую идеальную модель для будущей свободной России. В этом существенное и важное отличие нашего союза от, скажем, демократического движения и некоторых других направлений инакомыслящих. В этой своей положительной программе мы сознательно с самого начала ориентировались на ценности христианские, пытаясь в свете христианства, в свете вечных истин Евангелия решить целый ряд социальных проблем и проблем политических. Насколько нам это удалось удовлетворительно описать, судить лучше всего нашим читателям, поскольку в прошлом году в издательстве ИМКА-пресс вышла книга, посвященная нашей организации, где помещен впервые был полный текст нашей программы.
Ив. Толстой: Голос Евгения Вагина. Запись 76 года. Архив Свободы. Продолжаем беседу с Михаилом Талалаем.
Складывается впечатление, Михаил Григорьевич, что Олег Охапкин был не просто ярким лирическим голосом своего поколения, но ему было дано сформулировать некоторые очень важные ощущения драматического времени шестидесятых-семидесятых годов.
М. Талалай: Да, это действительно важные тексты, потому что в них Олег Охапкин, ну скажем так, в концентрированной форме писем к другу-интеллектуалу, в Рим, обрисовывает свою концепцию Бронзового века русской поэзии. Я, признаться, оторван от литературоведческой сферы, но, публикуя эти письма, вчитался в это понятие, обнаружив, что Охапкин подходил к нему с середины шестидесятых годов, но, вероятно, точкой отсчета понятия Бронзовый век следует считать его стихотворение 1975 года, которое так и называется «Бронзовый век».
БРОНЗОВЫЙ ВЕК
С.С.
На Галерной чернела арка.
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
А. А.
Красовицкий, Еремин, Уфлянд,
Глеб Горбовский, Соснора, Кушнер...
Макинтошами, помню, устлан
Путь Господень в живые души.
Рейн да Найман, Иосиф Бродский,
Дмитрий Бобышев да Охапкин
Наломали пред Ним березки,
Постилали цветов охапки.
Ожиганов, Кривулин... Впрочем,
Дальше столько пришло народу.
Что едва ли строфу упрочим,
Если всех перечислим сряду.
Куприянов Борис да Виктор
Ширали... Стратановский, кто же
Не вспомянет о них! Без них-то
Было б грустно. Скажи, Сережа...
Чейгин, Эрль... может. Лен иль кто-то
Из других: Величанский, либо
Кто еще, но открыл ворота
Всей процессии. Всем спасибо.
И когда Он вошел в сердца нам.
Мы толпою пред Ним стояли.
Но дружиною стали, кланом.
Чуть бичи Его засвистали.
Он исторгнул из Храма лишних.
Торговавших талантом, чтобы
Воцарился в сердцах Всевышний,
А в торгующих – дух утробы.
И пошли по домам поэты.
Те, кто Бога встречали – с миром,
А купцы разбрелись по свету
Золотому служить кумиру.
Разбрелися по всем дорогам.
Приступили ко всем порогам,
И на бронзовосерых лицах
Тихо бронзовый век горел.
На Галерной пылала арка.
Доносились битлы из парка,
И на жарких старинных шпицах
Летний зной день за днем старел.
А по набережной блокадной
Той походкой слегка прохладной
Горемык, стариков, калек
Двадцать первый маячил век.
Век железный. Теперь уж точно.
Но в него мы войдем заочно.
Нас раздавит железом он –
Век машина, Число-закон.
Но поэзии нашей бронза
Над машиною встанет грозно,
Серафически распластав
Огнецветный души состав.
И над веком Числа незримо
Шестикрылого серафима
Отразит глубина сердец.
Так велел ей времен Творец.
И вспомянет нас новый Ньютон,
Ломоносов, Державин в лютой
И железной своей тоске.
Мы не строили на песке.
Мы стояли на тех гранитах.
Где священная речь убитых
Ваших пращуров, наших лир
Освятила грядущий мир.
Но в жестокие наши годы
Мы слагали вот эти оды.
Возводили алтарный свод.
Где Глагол к нам сходил с высот.
Это в бронзовом нашем веке
Совершилось. Пришелец некий
Босоногий меж нас ходил.
К вам доходит лишь дым кадил.
И за это видение Слова
Нам досталась такая слава,
О которой судить не нам.
Жизнь дается по именам.
Им еще прославляться рано.
Но, что делать, когда так странно
Открывается книга тех,
Кто из мертвых восставил стих.
Эта бронза еще в расплаве.
Но ваятель отливку вправе
Совершить на хозяйский глаз.
Помяните, поймите нас!
Мы пройдем, как пред нами те, кто
Назначал нам пути и вектор.
Но пройдете и вы, кто там
Настигает нас по пятам.
Это все, что хотел сказать я.
Впрочем, все стихотворцы – братья,
И в железное время то
Не осудит меня никто.
Я восславил не столько неких
Современников, сколько речь их,
На которой легла печать.
Приучившая нас молчать.
Бронзовеющий стих надыбав,
Я гляжу, как друзья на дыбах
Постаментов молчат и ждут
Послабленья. Напрасный труд.
Быстротечен их век и тесен
Круг назначенных Богом песен.
Все, чему суждено греметь,
Им придется в молчаньи петь.
Лишь тогда отдохнут от бронзы.
Как начнется эпоха прозы.
Эх, поэзия! Грезы, розы...
Русской лиры прямая медь.
М. Талалай: Сейчас это понятие – Бронзовый век, как я понял, не так давно, но широко обсуждается. И некоторое время термин приписывался другу, упоминаемому, кстати, в письме Олега – Славе Лёну, тоже поэту, который, согласно интернету, является как будто автором понятия Бронзовый век. И вот теперь наша публикация, думаю, переатрибутирует это. Как я понимаю, и сам Слава Лён в итоге согласился с тем, что первоначально это выражение и раздумья о Бронзовом веке принадлежат именно Олегу. И вот, в этих письмах к Евгению Вагину в Рим, Олег дает достаточно четкие определения Бронзового века.
Из письма Олега Охапкина Евгению Вагину:
Сейчас идет по всему миру смена поколений. В России она особенно разительна.
В течении двадцати лет и мокрого места не останется от той гнили, какой мы все напитались за горькую жизнь нашу. И потому можно и сейчас многому радоваться. Но всему свое время. И тут, как говорится, против рожна не попрешь. …
Что же наш долг? – А я его понимаю в ежедневном духовном труде даже до смерти. Но торопиться по-русски некуда, разве что в гроб. …
Русская поэзия, я полагаю, не дала еще ни Данта, ни Гете, ни Шекспира лишь потому, что даже и редкие гении наши умирали молодыми. Другое дело наша проза. И Гоголь, и Достоевский, и Толстой жили достаточно, чтобы дорасти до самих себя.
К сожалению, и Пушкин, и Лермонтов, и Блок, и Гумилев погибли слишком рано. А других у нас и не было с такими задатками. Да, кстати, потому и погибли, что не успели достигнуть той нравственной полноты, лишь предчувствуя ее, до которой было суждено достигнуть Достоевскому. …
Теперь о Бродском. Давно прошло то время, когда кто-нибудь из друзей был для меня мэтром. Не мэтр для меня и Бродский. У нас были школьные дела. Это дела юности. Теперь и школа не нужна. И не будет никакой школы. Не то время, и люди уже не те, и слава Богу! Странное дело, но мне все привязанности моей юности как-то враз очужели, и я вспоминаю о них лишь по-человечеству и как историк нашей новейшей культуры, ведь любой серьезный поэт всегда историк своего времени.
Возня вокруг Бродского исходит из Питера
Мне выпала незавидная доля Нестора-летописца. Я многое видел, многое помню, но писать пока о том рано. Вот разве что походя – лирический комментарий. Так и в этом случае. Возня вокруг Бродского исходит из Питера. Питер вообще многое решает в нынешней культурной ситуации. …
А касательно обязательного в грядущем кризиса русской поэзии после ее окончательного расцвета, то его приближение должно быть ознаменовано шедеврами, то есть тупиками. Ну, а там само собой, натурально, цветение и расцвет прозы и так далее. (Сравни XIX век).
Но разве ж они меня послушали!.. Куда там. Кризис, кризис! И главное с такой радостью, будто шабаш. Поработали и хватит. Пора по домам. Отсюда возник и Бродский – Пушкин….
В июле уехал мой знакомый поэт Бурихин с женой. Как провалился, по обыкновению. В августе уехал Довлатов с матерью и собакой. От этого вестей и не жду. Однако, простился с ним по-человечески. Дай Бог ему мира и счастья в землях чуждых. …
Жизнь наша оказывается куда интересней и оптимистичней, чем это думали «диссиденты». Я говорю это с полной ответственностью, не вдаваясь в подробности. Да ты и сам, видно, того же мнения. Трагичное в нашей жизни закалило и саму жизнь. Кто этого не видит, тот и ничего, значит, не видит.
Искренно, Олег
Ив. Толстой: Михаил Григорьевич, этой публикацией Вы закончили изучение темы Бронзового века?
М. Талалай: Ну, с одной стороны, да, потому что, повторю, письма емкие и как будто они – законченные эссе. Но, с другой стороны, я все-таки надеюсь на продолжение, потому что архив поэта в Петербурге еще до конца не изучен, хотя, что касается эпистолярной части, то она действительно небольшая, ибо письма уничтожались в виду возможных преследований. Архив Евгения Вагина в Бремене также еще не до конца разобран. Мне показали лишь верхушку, поэтому я надеюсь, что за прошедшие уже пару лет после моего визита в Бремен эта разборка продолжается и меня допустят к оставшейся части. Не думаю, что я найду там столь значимые тексты, которые мы только что опубликовали, но надеюсь на какие-то интересные штрихи, во-первых, к этой дружбе, о которой мы мало знаем - между Вагиным и Охапкиным, и во-вторых, вообще о круге их общения, о том времени. Надеюсь, что какие-то новые тексты, Бог даст, найду, и эта история продолжится, в отличие от самого Бронзового века, закончившегося, согласно расчетам Охапкина, в 2004 году.